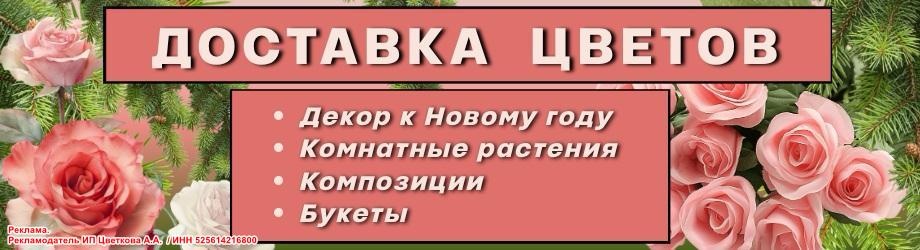Какой след оставила Великая Отечественная война в истории нашей страны, в сердцах тех, кому удалось ее пережить? Что знают о событиях тех трагичных 1418 дней внуки и правнуки тружеников тыла, ветеранов, участников и героев войны? Еще не поздно услышать из первых уст истории жизни тех, кто в далеком 1941–1945 году боролся за мирную жизнь до последнего, и, может быть, прислушаться к их мудрости и опыту.
В День 71-й годовщины Великой Победы советской армии над фашизмом, 9 мая, ИА «В городе N» поздравляет всех читателей с праздником и представляет вниманию интервью с почетным гражданином Нижнего Новгорода, участницей Великой Отечественной войны, связисткой, заслуженным экономистом РСФСР, строителем, руководителем нижегородской организации фронтовичек Людмилой Ивановной Кузмичевой, которая благодаря своей непоколебимой любви к Родине стала примером мужества, стойкости духа и трудолюбия не только для своих родных, но и, без сомнения, всех, кому довелось с ней познакомиться.
Уважаемая Людмила Ивановна, здравствуйте, расскажите, немного о вашей семье.
В семье 17 человек, а недавно родилась праправнучка. Мой дед — брат графа Шереметева. Мама — Зинаида Ивановна Кузмичева, выпускница епархиального училища, в годы Великой Отечественной войны работала старшей медсестрой во второй инфекционной больнице Горького. В 1941–1942 годах она работала на судах «Верхневолжского пароходства», которые перевозили раненых из Сталинграда и Подмосковья в эвакогоспитали Горького и на Бор.
Сестра — чемпионка Московской области по лыжам, работала на заводе в Дубне, который выпускал беспилотные самолеты. Брат в 17 лет после окончания школы добровольцем пошел на фронт, в годы войны был радистом, старшиной, позднее дослужился до полковника госбезопасности.
В нашей семье никогда не уклонялись от службы: брат дослужился до старшины, мама — старшего сержанта, а я младший сержант. Сыновья — оба и старший, и младший, и два внука — тоже служили в армии.
Каким Вам запомнилось детство?
Я потомственная горьковчанка во многих поколениях, родилась в 1922 году в Нижнем Новгороде, но детство мое прошло на юге. Мой отец — бывший политкаторжанин: когда ему не было и 21 года, его приговорили к вечной каторге, и до 1917 года он сидел в Петропавловской крепости. После освобождения работал начальником уездной полиции в Дальнеконстантиновском районе, но за десять лет в заключении ему опротивел холод, и он стремился на юг. Поэтому в 1926 году мы переехали в Сочи, где я прожила до 1930 года. Тогда это был маленький городишко, и когда пришла пора учиться, мама настояла, что в Ростове-на-Дону нам будет лучше.
Училась я отлично, меня все интересовало, особенно история и археология — очень любопытно было, как обезьяна стала человеком, как смогла встать на ноги (смеется). Сейчас даже не представляю, как на все хватало времени: посещала и авиамодельный кружок, тогда это считалось модным — все стремились в небо, даже песни про небо в основном писали, и биологический кружок — раз в неделю кормила в зоопарке детенышей лис, волчат, убирала за ними.
Помню, во втором классе нам сказали, что в городе может начаться эпидемия, потому что приехало много деревенских, которые привыкли выбрасывать отходы рядом с домом. Нам выдали повязки на руки с надписью «Патруль чистоты» и объяснили, что мы все должны следить за тем, чтобы город был чистым. А для этого, при случае, когда какой-нибудь мужчина бросит окурок, нужно было подойти к нему и сказать: «Вы случайно обронили окурок, можно я за вами его подниму?». При таком вопросе сознательный человек бы ответил, мол, конечно, можно, а затем бы постыдился. Мы без раздумий следовали этому правилу.
Я с юных лет усвоила: хочешь жить в чистоте — сам прикладывай усилия к этому. На днях я рассказала пятиклассникам эту историю, они, хоть и согласились, что Нижний Новгород — грязный город, но хором ответили, что не стали бы делать замечание взрослым в подобной ситуации, потому что им же еще и достанется. По-моему, это большое упущение: и то, что детям не привита любовь к чистоте, и то, что отношение к старшему поколению заведомо негативное.
В моей школе в 11 часов каждому ученику с первого по десятый класс бесплатно давали стакан теплого молока и половину свежеиспеченной французской булки, которые я вспоминаю с благодарностью даже сейчас. Особенно приятно было так перекусить зимой (улыбается).
Голода мы тогда не испытывали, помню в Ростове был огромный рынок, переполненный продуктами сельского хозяйства, которые везли из Украины. Там тоже не голодали, как сейчас принято считать, но были отдельные районы, в которых местные «кулаки» сами уничтожали зерно, чтобы оно не досталось советской власти, — вот там действительно нечего было есть.
ДОВЕЛОСЬ ПООБЩАТЬСЯ С ЧКАЛОВЫМ И ТОЛСТЫМ
В моей жизни было много удивительных эпизодов. Например, в 1937 году, когда проходили первые народные выборы в Верховный совет, я встретила Валерия Павловича Чкалова. Мне тогда было 15 лет, меня только приняли в школу № 13 (где сейчас расположен лингвистический университет) и назначили помощником агитатора.
Валерий Павлович оказался свойским человеком. Я чувствовала себя личностью рядом с ним, он мог запросто похлопать по плечу и сказать: «Продолжай в том же духе». До сих пор думаю, что его гибель была подстроена.
Мне посчастливилось познакомиться и с Алексеем Николаевичем Толстым, когда его эвакуировали в октябре 1941 года в Горький. У него здесь был друг Леонид Яковлевич Мендиаров — историк, археолог, сотрудник краеведческого музея (ныне усадьба Рукавишниковых). Мы гуляли втроем по откосу, но, конечно, я их только слушала, никто мне слова не давал. Толстой тогда был очень удручен происходящим: Москва почти была в руках у немцев, он все не мог поверить, неужели повторится взятие столицы, как при Наполеоне. А Мендиаров ему отвечал, что этого не произойдет, потому что народ уже не тот: то были крепостные, а сейчас есть власть, и народ обязательно встанет на ее защиту.
Как Вы узнали о том, что Германия напала на СССР?
«Я счастливый человек: узнала о войне только 25 июня 1941 года», — ответила, не раздумывая, Людмила Ивановна на вопрос, который так часто задают ветеранам, но затем увлеченно рассказала предысторию событий.
Маме не подходил южный климат, да и отец, видимо, предполагал, как будут развиваться события, и, как многие политкаторжане, решил, что семья должна жить в другом городе, что это сохранит жизнь близким. В 1934 году, после очередной маевки, на отца донесли за критику коллективизации. Через знакомых нашли доносчика, его арестовали, а папу отпустили. «Доносчику первый кнут», — это еще Иван Грозный сказал. Но в 1935 году мы с мамой вернулись из Ростова в Горький, я тогда ходила в шестой класс.
В марте 1941 года отца снова арестовали за то, что на партсобрании возмутился, сколько же можно отправлять эшелоны с зерном с Кубани в Германию. Было какое-то предчувствие, что война неизбежна. В июне началась война, и вскоре Ростов был взят. Тогда начальнику тюрьмы, где содержался отец, было дано указание уголовников — отпустить, политзаключенных — расстрелять, а дела и архив — сжечь.
В то время я уже была студенткой второго курса Московского института картографии и приехала на каникулы в Горький, где работала на областной детской технической станции. У нас было задание от академии наук провести археологические раскопки на севере Горьковской области после паводка в междуречье Линды, Керженца. Берега этих рек песчаные, можно было найти кремневые скребки, наконечники. Продовольствия у нас было ровно на четыре дня, поэтому мы рассчитывали на помощь местных властей. Мы знали о том, что в Семеновском районе жили раскольники, поэтому нас предупредили, что надо вести себя уважительно и сдержанно.
Мы думали, что увидим мирную сельскую жизнь, а, когда пришли, поразились тяжелой, давящей тишине: на улице не было никого, даже кур. Обратиться не к кому, вывесок нет. Отворилась калитка соседнего дома, но женщина, нас увидев, опешила. Мы объяснили, что туристы и хотим поесть. В тот день было очень жарко, и она отвела нас в амбар отдохнуть, но неожиданно задвинула засов, приняв нас за диверсантов. Она кричала через двери: «Да какие туристы могут быть в войну?!», а мы никак не могли понять, про какую войну она говорит.
Вечером местное начальство отправило нас в Горький, где на всякий случай встретила милиция. Тогда уже нам и объяснили, что немцы перешли границу, что объявлена война. Наутро мы все пошли в военкомат записываться в добровольцы, у двоих ребят из нашего лагеря, которым исполнилось 18 лет, дома уже лежали повестки. Но военком схватил меня и подружек за шиворот и сказал: «Надо будет — призовем, а пока идите занимайтесь своим делом».
ПЕРВАЯ БОМБАРДИРОВКА ГОРЬКОГО
Вскоре пришла осень: 4 ноября 1941 года — первую бомбардировку Горького, помню, как сейчас. Как только объявили тревогу, мы побежали на сборный пункт. Крушили автозавод, не только бомбами, но и из пулеметов. Тогда на заводе была пересменка, одни закончили работу и шли домой, другие — подходили к заводу. Эти два потока людей попали под пули, были и раненые, и погибшие. Мы бежали к ним оказать помощь, не понимая, что сами можем пострадать, перевязывали раны. Узнали, что руководящий состав погиб, потому что было прямое попадание в бомбоубежище, куда они спустились. То есть были предатели, которые фонариками светили немцам, где надо бомбить, — от этого очень горько.
Той осенью одна из многочисленных бомб упала между церковью и домом на Ковалихинской. Там жила двоюродная сестра мамы Шура Смирнова — солистка филармонии. Ее лицо изуродовало осколками и щепками, она не могла оставаться артисткой и через два года умерла. Это была первая потеря в нашей семье в годы Великой Отечественной войны.
Меня, конечно, так и не призывали, но направили рыть противотанковые рвы. Помню, как над нами в небе иногда кружились немецкие самолеты, но не бомбардировщики, а разведчики. В военкомат по-прежнему бегали записываться, но военком нас уже не выгонял…
Объясните, почему Вы так рвались на фронт?
Мы были так воспитаны. Это было, как тогда в детстве в Ростове, — мы не сомневались, что надо пристыдить курильщика, потому что знали, что приносим пользу стране, что сохранить город чистым — общее дело. И потом, мы ведь все сдавали ГТО, почти у каждого был значок отличия. Трудно передать словами, что переживал каждый из нас, но мы были патриотами, знали, что творится в стране, все понимали…
Мою подругу Риту Кириллову — она была из семьи купцов, которые владели магазинами в Горьком, — родители даже заперли в комнате в то время, как мы все побежали записываться добровольцами в армию. Когда я ушла на фронт, она еще продолжала учиться, но все же вопреки воле родителей в 1944 году сразу после окончания института стала врачом медсанбата.
В марте 1942 года немцы окружили Сталинград, а мужчин, которых можно было бы послать воевать, почти не осталось, так как у многих была «бронь» от заводов, иначе некому бы было изготавливать вооружение для фронта. Тогда Госкомитет обороны и издал указ о наборе девушек-добровольцев в армию — зенитчицами, поварами, радистками, дальномерщицами, писарями.
Женщины заменили всех мужчин, кроме наводчиков. Дело в том, что женщинам запрещалось поднимать 16-килограммовые снаряды, но нередко при обстрелах наводчиков убивали, тогда напарницы вдвоем тащили эти снаряды. По всей стране в тот год было призвано около 500 тысяч женщин, и я среди них, еще столько же работали в госпиталях.
Получается, даже в годы войны к женщинам-военнослужащим относились как к будущим матерям?
Когда я служила в 289-м отдельном зенитном артиллерийском дивизионе Западной противовоздушной обороны, майор всем старшинам запретил выдавать нам табак и всем известные сто грамм водки в день, и приказал заменять их сухофруктами и сахаром. Он тогда сказал, что мы — будущие матери и должны быть здоровыми.
К сожалению, не везде так было, но девушки, чаще всего, выменивали спирт на сахар и почти не курили. Все-таки у большинства мужчин сохранилось уважительное отношение к женщинам на фронте. Позднее, где бы я ни служила, мне везло с командованием в этом отношении.
Какие бытовые условия были на фронте?
В первые месяцы моей службы — мае, июне, июле, когда из Горького направили в Ковров, мы вставали в 4 утра, пока мужчины спали, собирали грибы, ягоды, крапиву, щавель — с провизией тогда сложно было. Все это сдавали в 6 утра поварам на щи, компот. Нам присылали свиной жир из Америки — лярд (консервы), однажды кто-то пустил слух, что японцы его делают из толстых червяков, мы, конечно, все равно его ели, но с огромным отвращением (смеется).
В мирные часы мы все возможное время отводили личной гигиене. Если успевали постирать белье, обязательно это делали: тогда девушки носили мужское нижнее белье, неудобное, если у кого-то сохранялся один комплект личного белья, его не забирали. В первые же дни мне попалась врач, которая научила мыть голову в растворе красного стрептоцида, от него волосы рыжели, но зато не было ни перхоти, ни вшей. Все последующие годы я это правило соблюдала.
Когда боев не было, проводили медосмотр, и если только у одного кого-нибудь заводились вши, на санобработку отправляли всех без исключения. Бани не было, поэтому ставили в палатке бочку с водой на кирпичах, грели воду, как-то мылись. Зенитная артиллерия и танковые части санитарные нормы соблюдали в полной мере, это я точно могу сказать, как дело обстояло в пехоте, не знаю, хотя, конечно, и у нас бывали времена, когда возможности помыться не было.
Какие привычки у вас остались со времен войны?
Соблюдать чистоту тела. Я каждый день утром и вечером принимаю душ. И мои подруги-фронтовички, насколько я знаю, тоже, потому что правило «чистота — залог здоровья» нам привили в армии.
БОЕВЫЕ РАНЫ
Сначала я служила радисткой в Коврове три месяца, потом до марта 1943 года в Горьком начальником станции в штабе полка, землянка располагалась в садике Пушкина, перед ней — плац, а казарма — возле нынешней телебашни.
В апреле 1943 года мы с подругами написали письмо Сталину, чтобы нас взяли на передовую, тогда мы находились в части в Горьком — в глубоком тылу. Через две недели вызвало командование, пожурило за нарушение устава, потому что полагалось только к прямому начальству обращаться, но, тем не менее, отправили с первым эшелоном в 1423-й зенитно-артиллерийский полк Ряжско-Тамбовского дивизиона, а там нас разъединили…
В мае 1944 года я попала в госпиталь, потому что ослепла на один глаз. Незадолго до этого в Брянске один из наших солдат нарвался на мину, и его изрешетило осколками. В ту пору у нас то и дело возникали перебои со связью: сами радиостанции хорошо работали, а питание к ним приходилось ждать порой неделю, поэтому меня отправили вместе с подругой сопровождать этого раненого в госпиталь в Воронеж.
Тогда мы носили пилотки «испанки», которые сами связали из присланных королевой Великобритании Елизаветой II в. виде гумпомощи белых тонких шерстяных чулок. Наше командование разрешало нам их носить, так мы хоть немного на девушек похожи были, а в тот день мы поторопились и пилотки забыли. Нас прямо на вокзале и задержали за ненадлежащий вид, привели в комендатуру и заставили в наказание чистить картошку.
Внезапно у меня перед глазами будто разлилось молоко, а потом в одном глазу почернело. Это было отслоение сетчатки из-за прошлых контузий, меня отвезли в госпиталь. Чтобы сохранить зрение, пришлось месяц лежать на одном боку, для меня это было невыносимо.
По правилам при выписке всех направляли в одну часть, и я должна была попасть к танкистам, осваивать в 39-м Омском учебном батальоне новые танки Т-34. Но ни с первым, ни со вторым, ни с третьим эшелоном меня не отправили, сказали, что в Воронеже нужны радисты. Конечно, меня это возмутило, ведь Воронеж — глубочайший тыл, но командир сказал: «Исполняй устав, а не слушай сердце», я никак не могла понять, к чему он это говорит. Через несколько дней приехал высокий начальник, и я ему обо всем рассказала. Он решил, что лучше уж меня отправить на фронт, а то опять напишу письмо Сталину (смеется). Так я попала в первую гвардейскую танковую армию на Сандомирский плацдарм и впервые ощутила в полной мере, что значит оказаться на передовой
ЭТО БЫЛА НАСТОЯЩАЯ МЯСОРУБКА
Когда мы прибыли, поле сражения напоминало слоеный пирог: советские тыловые части танковой армии, за ними — отставшие и окруженные немцы, потом — моя первая танковая армия, дальше за границей Польши — Германия. Мы обязаны были не пропустить немцев на Запад: выстроили вдоль линии танки и самоходки. Моему заградотряду был дан приказ стрелять в солдат, которые бегут назад. Это страшно — стрелять в своих, но ничего не поделать.
Там же я перевязывала раненых, вы представить себе не можете, как это страшно — ранение в живот: была возможность только помыть руки спиртом, чтобы вправить солдатам выпадающие кишки и забинтовать живот. Когда подошло подкрепление, смогли вывезти раненых, но дожили не все…
ГОРЬКОМУ — ЗВАНИЕ ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ!
В 1943 году мы охраняли мост через реку Сосну в городе Елец, в котором в ноябре—декабре 1941 года шли бои. Когда мы прибыли туда, заметили, что город не разрушен, везде чисто, каждый дом за ровным забором.
Меня, как и многих, возмущает, что Ельцу присвоили звание Города воинской славы, несмотря на то, что его жители встречали немцев хлебом-солью во время оккупации, а большинство местных в войну только разводило скот и продавало его на мясокомбинаты.
А сколько горьковчане сделали для фронта, сколько наших погибло в Великую Отечественную войну, сколько немцы бомбили город, Автозавод, «Красное Сормово», Ленинский завод, а до сих пор не имеет звание Города воинской славы! Вот такие несуразности бывают в жизни.
9 МАЯ 1945 ГОДА
22 апреля 1945 года я опять ослепла, и меня демобилизовали. Когда спросили, куда поеду, сказала в Поти — городок на Черном море, где, по легенде, греки добывали золотое руно. Меня ведь увлекала археология, интересовало не само золото, а как аргонавты промывали песок через баранью шкуру, добывая его. Но и там в военкомате меня задержали, попросили стать инспектором на таможне, зато выдали разрешение ходить по ночам по городу.
В Поти на пароходах приезжали болгары, румыны — привозили контрибуцию. Помню первый теплоход — американский «Queen Mary». Народ собрался встречать гостей на причале, а американцы, наслушавшись про голодающих советских солдат, стали сбрасывать консервы.
В то время в Поти стояли корабли Севастопольского флота, а на главном линкоре была очень громкая радиостанция. Так мы и узнали 8 мая 1945 года о капитуляции Германии. Народ собрался в порту, кто-то пел, кто-то стрелял из автомата в воздух, всю ночь мы праздновали Победу. А 9 мая продолжили праздновать уже со всей страной вместе.
ЭХО ВОЙНЫ
Мама позже рассказывала, что в Твери (тогда город назывался Калинин) на одном берегу Волги были немцы, на другом — наши, и санитарным судам приходилось в полной темноте подплывать к берегу, чтобы подобрать раненых. На 25-летие Победы мама показала в одной из федеральных телепередач свою фотографию 1943 года с двумя ранеными в каюте на теплоходе. После этого женщина, узнавшая в молодом безногом на снимке своего сына, смогла его разыскать. Мама запомнила, в каком госпитале он лежал, и посоветовала обратиться туда. Оказалось, что, не желая быть обузой для семьи, солдат поселился в доме для инвалидов, но она все равно забрала его домой. Как иначе, он ведь ее сын…
Можно ли было влюбиться на фронте?
Любовь? Ее не было, не те времена были. Любовь приходит в мирное время, когда душа раскованна, когда нет крови, когда не видишь, как гибнут друзья. Самое страшное, что я видела за всю войну, это отступление немцев в 1945-м: после боев кругом оставались трупы, которые лежали, как куклы, и не поймешь, то ли наши солдаты, то немецкие. А танки «уходили» прямо по ним.
Хотя жизнь у всех по-разному складывалась: если служили при штабе, то и влюбиться можно успеть, а если в рядовом составе зенитной артиллерии или другой части, то нет — это только работа, тяжелая служба. У нас в части была медсестра Катя, которая всю войну прошла вместе с командующим армии, хотя он был женат, а жена была вдобавок полковником КГБ, он из-за нее восемь инсультов перенес (смеется).
На войне все друг другу товарищи, друзья: «Сам умирай, а друга из боя вытащи», — у нас так было принято. Люди, конечно, всякие были, но в основном старались помогать друг другу. Примеров подвигов Матросова было очень много. Хотя было и такое: 5 августа 1943 года мы освободили Орел, а 17 августа был парад, и двух партизан-изменников повесили на площади… Меня пытались забрать в партизанский отряд, но командующий не позволил, еще и выговор получила (смеется).
В 1943 году во время переформирования зенитных частей в Брянск прибыл адъютант, воспитанник горьковской колонии, познакомились, пока ждали решения, куда его распределят, а ночью пошли гулять. Вдоль дорожки вся земля была заставлена табличками, предупреждающими о минах, это была очень опасная прогулка. Говорили о жизни, о будущем, спорили, есть ли жизнь на Марсе (в этот момент лицо Людмилы Ивановны просветлело — прим. ред).
Днем мы разошлись по своим делам, а вечером он уехал, потом прислал письмо с фотографией, на которой было написано, что после войны мы должны пожениться. Но жизнь распорядилась по-своему — мы больше никогда не встречались. В 2000-х я узнала, что он стал начальником одного из управлений КГБ, но не захотела ему писать: воспоминания о человеке, который из беспризорника стал таким достойным человеком, человеком с большой буквы, делают меня счастливой. Но говорить об этом не стоит, это сокровенное…
Что бы Вы пожелали молодым людям, которые еще только встают на жизненный путь?
Я бы пожелала каждому любить жизнь, какой бы она ни была. Быть доброжелательнее к людям. Бережно относиться к природе и всему живому. И всегда улыбаться, потому что злой человек никогда не улыбнется в ответ, он попросту не сможет этого сделать.
Я прожила достойную жизнь, мне с детства везло на хороших людей. Но меня тревожит, какой станет Россия, почему нынешняя власть не говорит, что Великая Победа — Победа советского народа, почему дети этого не знают.
Если бы война случилась сегодня, я бы не пошла защищать страну: кого защищать, от кого? Олигархов — от других олигархов? Это очень тяжелый вопрос, но я вправе его задавать себе, потому что уже прожила жизнь. Этот вопрос не для вас, не для молодых — не мучайтесь им, живите и радуйтесь. У каждого человека свой путь: каждый должен сам делать выводы, решать, как жить, к чему стремиться, самое страшное, когда тебя по жизни ведет кто-то другой.
После этих слов бодрая, улыбчивая и неунывающая Людмила Ивановна сильно разволновалась. Стало очевидно, что вспоминать о трагических, тяжелых военных годах, теперь уже таких далеких, но все еще памятных, сердцу ветерана легче, чем представить, что страна однажды переживет еще одну войну…